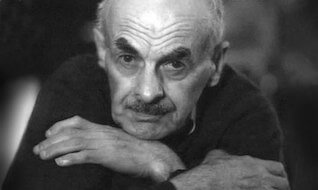16 июня был день рождения у Людмилы Дмитриевны Херсонской.

* * *
Не знаю, как сказать тебе, кошка, что идет война,
не знаю, как сказать тебе, что ты можешь остаться одна.
Не знаю, как тебе объяснить,
что есть вещи, которые нельзя починить.
Предположим, ты разбиваешь вазу,
ее не склеишь,
предположим, хотя не бывало ни разу,
ты украла курицу и об этом жалеешь,
но от курицы остался обглоданный куриный скелет
и даже ты понимаешь, что курицы больше нет.
Есть коты и кошки, они ничьи,
в их меню входят мыши и воробьи.
Они не пьют молоко, только воду одну,
таким животным легче перенести войну.
Может быть, кошка, нам придется отсюда бежать,
я не смогу взять тебя с собой, да тебя и не удержать,
ты боишься людей, боишься машин,
ты не видела, кошка, горящих шин.
Ты не слышала, как рвутся снаряды над головой,
ты слышала издалека только собачий вой.
Иными словами, кошка, ты остаешься одна,
ты, кошка, никому не будешь нужна.
Вот запас еды, его хватит на четыре дня.
И прости меня, если можешь, прости меня.
* * *
Идет мужчина, несет рабочие руки.
Село Васильевка. За селом — красные маки.
Рабочих рук у мужчины всего две штуки,
пока не дело не доходит до драки.
Но как только дело дойдет до драки,
откуда ни возьмись растут кулачища,
вздымаются шишки, появляются буераки,
надуваются жилы или еще что почище.
Рабочий мужчина не жалеет рабочие руки,
давит гниду, трубит, правду-матку рубит,
а рабочих рук у мужчины всего две штуки
и он их, возможно, погубит.
Уборка
Каждый раз, когда он уезжает, она убирает в дому,
выбрасывает старые вещи, бумаги, книги.
Зачем, спрашивается, столько книг ему одному,
зачем ему атлас мира и путеводитель по Риге?
Каждый раз, когда он приезжает, чтоб ничего не найти,
он вверх дном перерывает дом. — Где моя черная папка?
Ты выбросила ее, выбросила? — Выбросила, прости.
У нее в голове веник, в руках — мокрая тряпка.
Она хлопочет на кухне, муж сидит на полу,
суп уже остывает, а муж не идет к столу,
ползает среди старых фото, выпавших из альбома —
вот девочка с мишкой, вот дедушка в кителе,
а где мои родители? Господи, где родители?
— Совсем сошел с ума. Твои родители умерли, Шлёма.