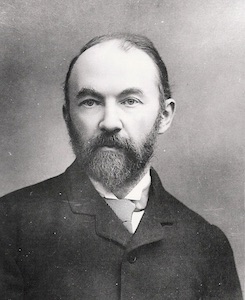6 июня был рождения у Олеси (Ольги) Александровны Николаевой.

Осень на озере Лиси
Ну вот — все пусто: никого.
Прохладен воздух, звук утончен.
Лишь призрак лета моего
твердит, что нет, что бал — не кончен.
Полны листвою и водой
качелей лодочки, а рядом
свидетель жизни молодой —
шиповник смотрит грустным взглядом.
И карусель уже не та,
зверюшки встали друг за другом,
но лев облезлый без хвоста
не мчится за жирафом кругом.
Никто теперь гнезда не вьет.
Но кто не обзавелся кровом,
не пляжем заспанным бредет,
а голым берегом суровым.
Очками черными вчера
лицо мы подставляли свету.
А нынче — кончена игра:
темна вода, земля сыра,
и небо требует к ответу.
Мемуаристка
Эмме Герштейн
Старуха-деспотка, всезнайка, самодурка,
полна разгадками. Как вещая каурка,
все вынесет, все чует, все раскусит:
душа при ней парит, а сердце трусит.
Она дороже мне всех молодых сестер
и братьев доблестных. Покуда на костер
толкает юношей, шлет теноров эпохи
и с барского стола швыряет крохи.
Старуха дерзкая! Тебе б носить жабо,
чаи гонять и ни гу-гу, что знаешь…
А ты героев, словно бибабо,
то кланяться, то каяться гоняешь.
И гребень сказочный на черный снег роняешь…
Старуха дивная! Перед тобою мгла
и обоюдоострый ушлый месяц.
Ты всех оставила — ты всех пережила:
врагов, любовников, наперсников, прелестниц.
И к небу тянутся каскады шатких лестниц.
Теперь рассказывай. Кто ел из этих рук.
Кто пил из туфельки. Кто гнал тебя по трактам.
Кто шею гнул, кто поломал каблук.
Ты помнишь все, не доверяясь фактам,
и жест важнее, чем сюжетный трюк.
А факты — что? Их можно тасовать,
бить, словно козырем, нагнать такого дыма,
что под призором их затосковать
по жизни подлинной, которая — помимо,
неописуема почти, неуловима…
Твои истории — то сон дурной, то сруб
паленый: кто — хозяин? где — скиталец?
И тут же появляется: у губ
фигура умолчанья держит палец,
глаза большие делает: луп-луп.
Нет, ты раскрой лицо, разоблачи
мотив податливый, кольни, найди, где сердце.
На поясе твоем бренчат ключи
от скважин мировых, от скрытой дверцы.
Кто там за нею? Ну-ка, постучи…
Чтоб вещи сдвинулись, поплыли, отворя
все, что там пряталось за ними, меркло, блекло:
любовь таинственней, чем звезды, чем моря,
а ревность пламенней, рубинового пекла,
ан — рядится то в мышь, то в снегиря.
А смерть прекраснее, чем первый день зимы.
И сад в снегу с открытыми глазами.
Старуха вещая, на дне твоей сумы
давно написано, что происходит с нами,
совсем не так, как это видим мы.
Три тайны вручены тебе, смотри:
одна — любви, другая — смерти… Страсти
при них тускнеют, словно фонари.
А третья тайна — это тайна власти.
Все было так, как скажешь. Говори.
* * *
Здесь все бывает: здесь вода горит,
орел сажает отрока на плечи,
вол славословит, лошадь говорит
серьезным голосом совсем по-человечьи.
Кладоискатель обретает клад,
купец — жемчужину из глуби океана,
и погорелец все свое — назад
получит без издержек и изъяна.
И всё, о чем душа средь тесноты
мечтала в сумерках и в сказках сочиняла,
здесь обретает вещие черты,
с лица земли срывая покрывало.
Дождем целебным в поле моросит,
седлает демона, взлетает ввысь на гребне
и по утрам по-бабьи голосит
на благодарственном молебне.