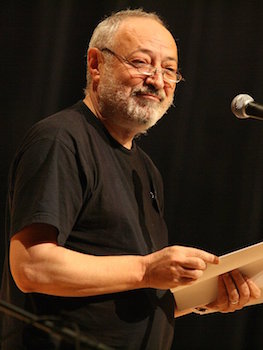
* * *
Когда душа обиженно трепещет
и бьет хвостом раздвоенным, когда
простые и простуженные вещи –
хлеб, чай с малиной, поздняя звезда –
так дышат пристально, так мудрствуют подробно
и сбивчиво, так достают меня
невинной неумелостью, подобны
рисунку детскому на обороте дня,
в печалях и волшебных суевериях
сгоревшего – я сам вздыхаю, сам
в овечьей маске встать готов за дверью
в ночь, и по устаревшим адресам
(апрель, апрель, пожалуйста, солги ей,
скажи, что жив, и небом одержим)
слать, не чинясь, приказы воровские,
подписываясь именем чужим.
Когда товарищи мои, редея,
бредут за холм, превозмогая страх,
и каждый сгорбленную орхидею
сжимает в обескровленных губах,
когда они скрываются за рощей
и облаком, где оправданья нет,
стакан сырой земли возьму наощупь
со столика, зажгу свой желтый свет
у изголовья, чтобы приглядеться –
но там темно, туманно, хоть умри,
не матери не видно, ни младенца.
Поговори со мной, поговори,
ночь ре-минорная с каймою голубою,
не укоряй, прислушайся, согрей –
какая орхидея, бог с тобою,
увядшая настурция скорей
* * *
Жизнь, пыль алмазная, болезный и прелестный
апрельский морок! Бодрствуя над бездной,
печалясь, мудрствуя – что я тебе солгу,
когда на итальянское надгробье
вдруг в ужасе уставлюсь исподлобья,
где муж с женой – как птицы на снегу,
когда светило, мнившееся вечным,
вдруг вспыхивает в приступе сердечном,
чтоб вскоре без особого следа
угаснуть? Ну прости. Какие счеты!
И снова ты смеешься без охоты
и шепчешь мне: теперь иль никогда.
Простишь меня, глупца и ротозея?
Дашь выбежать без шапки из музея,
где обнаженный гипсовый Давид
стоит, огромен, к нам вполоборота,
глядит на облака (ну что ты? что ты?)
и легкий рот презрительно кривит?
Долга, долга, не бойся. Битый камень
то переулками, то тупиками
лежит, а с неба льется веский свет.
И что мне вспомнится дорогой дальней?
Здесь храм стоял, сменившийся купальней,
и снова храм, зато купальни – нет.
Льном и олифой, гордостью и горем –
все повторится. Что ты! Мы не спорим,
в конце концов мы оба неправы.
И вновь художник, в будущее выслан,
преображает кистью углекислой
сырой пейзаж седеющей Москвы,
где голуби скандалят с воробьями
по площадям, где в безвоздушной яме
парит Державин, скорбью обуян,
и беженец-таджик, встающий рано,
на паперти Косьмы и Дамиана
листает свой засаленный Коран.