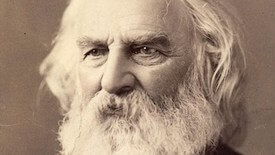28 февраля 1972 года родился Леонид Витальевич Шевченко. Убит 25 апреля 2002 года при невыясненных обстоятельствах недалеко от своего дома.

* * *
Я обнимался с девушкой хромой.
В соломе спал, блуждал в тумане.
Я шёл домой и не пришёл домой
Из Палестины с фиником в кармане.
Я грелся у голландского огня,
Я пел баллады ветреной весною.
Кто знает жизнь — тот не поймёт меня,
Кто знает смерть — не встретится со мною.
Вот капли пота над моей губой,
Вот капли крови над моей губою.
И вольный каменщик за праздничным столом,
Когда идёшь под барабанный бой
Эпохи — с непокрытой головою —
Невольно заслоняешься крылом.
* * *
В зимнем городе мёрзнет шинель палача,
И сравнительно тихо под каменным небом,
Но больничное утро дрожаньем плеча
Выдаёт беглеца перед самым побегом.
На перила мостов снизошла пелена,
Оголив облака, извивается, тает,
На Бутырке ворона (а в клюве луна)
С мертвецами старинную басню играет.
Мой прекрасный! Когда и тебя поведут, —
Будет тихое утро, на улицах сыро,
В зимнем городе страшно вороны поют
И бросают на головы ломтики сыра.
Я устану бояться, когда-нибудь я
Перережу рассвет одноразовой бритвой.
В зимнем городе пусто, и дышит броня
Никому не известной доселе молитвой.
И глядят удивлённо в ограду цари,
Наступает заря на разбитую банку,
За святую субботу горят фонари,
И шинель палача накрывает Лубянку.
И кому-то зашепчется в дыме: жара,
Может, пьяной старухе у пьяной коптилки,
В зимнем городе мёрзнет чужая жена,
И чужие друзья открывают бутылки —
Им не хочется есть, им не хочется пить,
Им довольно огня неживого рисунка.
Я ещё собираюсь тебя полюбить
В этом городе тёмном на склоне рассудка.
Я ещё собираюсь, но плавит свеча
Застеклённый, случайный, поспешный румянец,
В зимнем городе мёрзнет шинель палача,
Но сильнее всего указательный палец.
Не забудь же, Господь, ты жилище моё,
Я совсем не кричу, кое-как заклинаю.
Я надену опять гробовое бельё,
Погашу фитилёк и тебя не узнаю.
Украйна
Какого Голема слепить из этой глины?
Растёт бамбук на киевском дворе,
Хоронятся в подсолнухах павлины
И крокодилы царствуют в Днепре.
В Донецке милицейские мигалки,
За пазухой полтавский помидор.
Когда б не алконосты и русалки,
Пропал бы озабоченный шахтёр.
Что ты найдёшь на этих огородах?
Ребёнка шестилетнего с хвостом?
Как ты удержишься на этих скользких водах
С владимирским заточенным крестом?
Последний день не отдают бесплатно,
Коптят покойников славянские божки.
Мы возвращаемся из Харькова обратно,
В Луганске поглощаем пирожки.
1997
* * *
Сапогами стучать, соблюдая мечты,
как в бреду нарушая квартиры,
покоситься крестом на рассудок Читы
с умозрительным блеском Пальмиры.
Нет сомнений в моих похождениях. Нет,
И копейка трещит оружейно,
то сухие листки проверяют рассвет,
ни на миг не забыв пораженья.
Моя родина, был бы теперь властелин,
постарел бы заметно в острогах,
сумасшедшее ваше сиятельство, клин,
не блефуй на открытых дорогах.
Никому не отослана странная весть,
что цепей пресноватые лики
разрывают боренье на чуткую жесть
и на грубый оскал повилики.
Раз твои собираются жёны в домах,
европейские пухнут журналы —
от мороза предательство пуще в умах,
и во храме глаза задрожали
и былое отечество — дряблый рассказ,
от стекла до завода Петрова,
даже шуба шипит в обвинительный час,
и до крови не сменится крова.
Никогда, никому, до сестры городской,
но чиновника труп пред метелью,
он, наверное, знает, когда Трубецкой
оживляет шинель за шинелью.
Рыбы-птицы
Как много света и серьёзных лиц,
Обречены все люди молодые.
Они ещё не превратились в птиц,
Не вытянули клювы восковые.
Их обнимают злые города,
Их волосы под снегом или ветром,
А впереди несчастная звезда
Взошла, играя обморочным спектром.
Я вижу то, что не увижу вновь:
На человеке вспыхнула одежда.
Постой, моя последняя любовь,
Моя рыжеволосая надежда.
Как много света в небольшом саду,
Прощальных слов и медленного гула.
И я уже забыл, в каком году
Меня, как мальчика, в бараний рог согнуло.
И мы вошли с тобою в кинозал,
Чтоб нам механик правду показал,
И прошлое осталось за чертою.
Нет, мы не птицы — в глубине реки
Нам длинные заточат плавники
И наградят великой немотою.