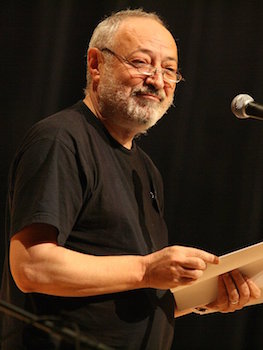Сегодня родился Габдулла Тукай (1886 — 1913), народный татарский поэт.

Переводы М. И. Синельникова
На память
Поэт мой, избранность свою в душе храни, в душе таи,
Скрывай призвание свое, не выдай помыслы свои!
Пусть не узнают нипочем, откуда мощь и разум твой,
Ты, как прозрачные тела, свой образ истинный сокрой.
Свое обличье и наряд всегда меняй, вступая в дом,
Там сумасшедшим обернись, а здесь объявишься шутом.
Смотри, себя не выдавай, веди ничтожный разговор,
Знай улыбайся потому, что неприличен хмурый взор.
Коль о стихах заговорят, речь на другое поверни.
Пусть входит лишь поэт в михраб, святилища не оскверни.
Не делай эту жизнь своей, ищи иное бытие,
Что суета и шум пустой? Поэт, все это — не твое!
Будь кем угодно на земле и выбери наряд любой,
Один я дам тебе совет: остерегайся быть собой!
Чуждайся мелочных забот, к чему поэту их тщета?
Забудет птица небосвод, коль будет в доме заперта.
И не достанется тебе поэта истинный венец,
Коль, звоном золота прельщен, ты измельчаешь под конец.
Так не склоняй же головы пред миром низких — ты велик!
Пусть мир склонится пред тобой, ты — царь, и не ищи владык.
Пусть злые душу омрачат — терпи и оставайся нем,
Таков их жребий, пусть мутят источник святости Земзем!
1908
Михраб — трибуна, с которой в мечети произносят проповедь.
Земзем — священный источник в Мекке.
Пора, вспоминаемая с грустью
Коль наскучит жизнь Иблису, он припоминает рай,
Ну а я, когда устану вижу детства дальний край.
Чище, чем тысячезвонный, быстрый ключ, была душа,
И была, как лист зеленый, жизнь свежа и хороша!
Все легко и лучезарно, и печали не гнетут,
Небо нежно-бирюзово, и земля — как изумруд.
Горьких слез еще не пролил и не знаешь черных дней,
Ты послушен лишь природе и внимаешь только ей.
Каждый цветик — что сестрица, деревцо — как брат родной,
Соловья напев струится, словно детский голос твой.
Полем вспаханным открыта для прекрасного душа,
И горит любовью к солнцу, благодарностью дыша.
Милосердьем бесконечным вся душа полным-полна,
Словно путь для благодати, нисходящей в мир, — она.
Если нищему сумеешь хлеба вынести ломоть,
Ты от счастья онемеешь, радости не побороть.
Вслух читают вечерами — ты живешь в местах своих,
Грустной повести внимаешь — слышишь нежный, звучный стих.
Голос книги сладко льется, убаюкивает он,
И глаза твои закрылись, ты внезапно усыплен.
Спишь спокойно, ну, а если ночью ты проснешься вдруг, —
Тишь… Рассвет еще не скоро. Темнота стоит вокруг.
И тебя охватит жалость, и до утренней поры
Ты оплакиваешь участь и Тахира, и Зухры.
1912
Иблис — дьявол.
Тахир и Зухра — герои восточной сказки-легенды.